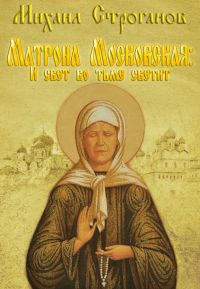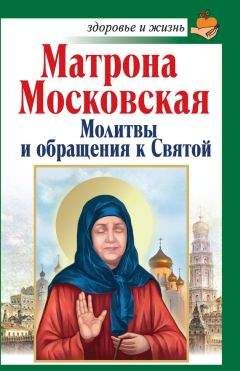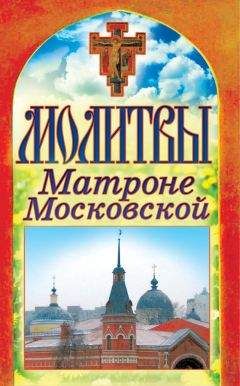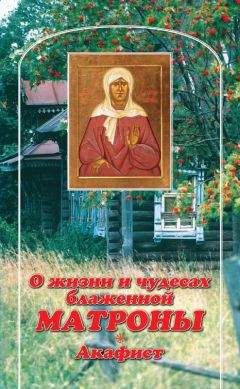С. С. Аверинцев - С. С. Аверинцев Поэты
(«Вместо покоя, вместо отдыха меня влечет со старой колеи — куда–то ринуться, куда–то полететь, совершить странствие в бесконечность».)
Когда она прочитала эти стихи, ее сердце сжалось. Конец был близок. Неожиданная, словно бы юношеская бодрость стихотворения говорила об этом убедительнее, чем старческие недуги. Душа Гессе собралась в путь и радовалась пути.
В июле следующего года был тихо, как всегда, отпразднован его восьмидесятипятилетний юбилей (Гессе и прежде, когда у него еще оставались силы, невозможно было вытащить на литературные торжества, на которых с таким вкусом к этому делу «представительствовал» — даже в год собственной смерти — Томас Манн). Летними вечерами он глядел на привычный за тридцать лет ландшафт, открывающийся с террасы Каза Гессе — уединенного дома в тессинском селении Монтаньола, который, собственно, ему не принадлежал, но был предоставлен состоятельным ценителем как пожизненное убежище его «отшельнической» жизни. Нинон Гессе описывает эти вечера:
«Он подмечал все — игру ветра в ветвях березы, облака на закате, оттенки гортензий — с такой полнотой и точностью, которые восхищали меня; он не забывал похвалить олеандр или кипарисы, приветствовать восходящий месяц или вечернюю звезду — и я снова думала: до чего же он все–таки привязан к жизни, больше, чем в прежние годы. Но теперь я знаю наверное, что это он прощался».
В свой последний вечер он слушал по радио Моцарта — домажорную сонату № 7, К 309. Моцарта он любил под старость больше всего на свете, как в юности — Шопена. Потом он уснул и под утро мирно умер во сне — 9 августа 1962 года.
…А за восемьдесят пять лет и полгода до этого, в феврале 1877 года, Мария Гессе, дочь протестантского миссионера и ученого–ориенталиста Германа Гундерта и жена Иоганнеса Гессе, тоже миссионера, которому слабое здоровье помешало работать в Индии, очень скромно и строго одевавшаяся женщина с глазами одновременно задумчивыми и решительными, ждала нового ребенка.
Она искренно набожна, как это само собой разумеется в ее среде, и при этом наделена богатым воображением — черта, унаследованная ею от отца; и вот сейчас она размышляет о том, как ее отец только что толковал таинственные слова самой таинственной из библейских книг, Апокалипсиса: «И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Ее материнские мысли сами собой переходят на неведомое существо, покоящееся у нее под сердцем: и для него уже есть «новое имя», и о нем есть какой–то вечный замысел! И она аккуратно записывает в своем дневнике: «Как чудно говорил папочка про новое имя, которое нам уготовано, каждому из нас особо — чудо Божье в грамматическом и лексическом отношении, имя, в котором заключено все, чем были мы на земле, что мы пережили и чем стали в милости Божьей, имя до того емкое по смыслу, до того разительно сообразное каждому, что при одном звуке этого имени все минувшее и прожитое, вся загадка нашей жизни, все сокровенное и непостижимое в существе нашем внезапно — при свете вечности — явится внятным душе…» От этих мыслей ей «вольно и сладко», ей видится грандиозный, все осмысляющий замысел, и она радуется, что ее «деткам» все это подарено «еще во чреве их матери» (запись от 15 февраля 1877 года).
Бесхитростные, очень домашние строки — только слова «в грамматическом и лексическом отношении» не без курьезности напоминают, как много эти полиглоты–миссионеры привыкли думать о языке (Герман Гундерт составил большой лексикон языка малая лам, был отличным знатоком санскрита, арабского, древнееврейского, древнегреческого, свободно говорил чуть ли не на всех европейских языках). Ни литературных, ни интеллектуальных претензий нет в этой дневниковой записи — но не кажется ли нам, что наше ухо улавливает музыкальную тему, которая пройдет через всю жизнь того, кому предстояло тогда родиться? Это тема неповторимости каждого человеческого существа на земле, тема тайны, которую разделяет с самим абсолютом он один и больше никто. Такое Герман Гессе понимал, даже чересчур. Для него, назвавшего себя «адвокатом индивидуальности», написавшего «Похвальное слово своеволию», тема эта — его вера и верность, его упрямство и вызов, его соблазн и безумие.
Иначе говоря, жизнь его должна стать негладкой. Но началась она в обстановке идиллии.
Крепкий, порывистый мальчик, очень скоро показавший свой строптивый нрав, родился 2 июля 1877 года в маленьком южногерманском городке Кальве. Это настоящий городок из немецкой сказки — с игрушечными старинными домами, с крутыми черепичными кровлями, со средневековым мостом, отражающимся в водах речки Нагольд. Окна родительского дома выходят на тихую уютную площадь.
Кальв лежит в Швабии; а родиться в Швабии — это судьба, от которой не уйти, тут предопределена тональность всей жизни. Швабия была обойдена политическим и экономическим развитием, в ней задержались черты патриархального быта и нравы, давно ставшие анахронизмом; но из швабского захолустья выходили такие дерзновенные мыслители, как Кеплер, Гегель и Шеллинг, такие самоуглубленные и чистые поэты, как Гёльдерлин и Мёрике, и даже веймарской классике Швабия подарила Шиллера. Историей края выработан особый человеческий тип: это Griibler, может быть, даже Schwarmer, то есть однодум и еретик, тихий упрямец, чудак и оригинал, погруженный в свои мысли, имеющий обо всем на свете свое мнение; своеобычный и несговорчивый. В XVIII веке, когда в центрах европейской культуры блистали вольтерьянцы, Швабия пережила расцвет пиетизма — мистического движения, причудливо сочетавшего оригинальные замыслы и прозрения, отголоски народного еретичества в духе Якоба Бёме, протест против черствой лютеранской ортодоксии — с самой трагикомической сектантской узостью. Иоганн Альбрехт Бенгель, Фридрих Кристоф Этингер и прочие «швабские отцы», как они названы в одном стихотворении Мёрике, все эти глубокомысленные фантазеры, самобытные искатели истины, стоящие как раз на грани мудрости и тихого помешательства, — колоритные персонажи местной старины, и
писатель всю жизнь сохранял к ним верную любовь: сквозь его книги проходит воспоминание о них — от фигуры мудрого сапожника мастера Флайга из повести «Под колесами» до мотивов, прямо связанных с историей швабского пиетизма, которые появляются в «Игре в бисер» и господствуют в неоконченном «Четвертом жизнеописании Йозефа Кнехта».
Атмосфера родительского дома была под стать этим швабским традициям. И отец и мать Германа Гессе с юности избрали путь миссионеров, и хотя по причине недостатка физической выносливости принуждены были вернуться в Европу, однако продолжали жить интересами миссии. Это были люди старомодные и ограниченные, но чистые и убежденные; их сын мог со временем разочароваться в их идеале, но не в их преданности идеалу, в которой видел самое важное воспитующее переживание своего детства, и потому самоуверенный, тяжеловесный мир людей, «умеющих жить», живущих «как все», навсегда остался для него не совсем реальным. Поветрие победительного националистического самодовольства, распространявшееся в Германии после франко–прусской войны, обошло стороной дом и весь круг родителей Гессе. Конечно, они были законопослушные подданные и не бранили ни кайзера, ни Бисмарка; но интересы были другие. У них, и особенно у Гундерта, «индийского дедушки», часто появлялись проезжие миссионеры из Англии, из Голландии, из Швеции, Дании, Норвегии, иногда молодые индийцы или африканцы. «Царство Божие», широкий мир, в котором возвещается христианство, — это было по их части, оно было для них реальнее, чем прусская империя. И еще в доме обитала тайна, очень сильно притягивавшая маленького Германа, — мысль об Индии, мечта об Индии, память об Индии, материализовавшаяся в каких–то статуэтках, каких–то тканях, в книгах на экзотических языках. Ведь мать Гессе даже родилась в индийском городе Талачери. Конечно, профессиональный интерес миссионера к стране, которую надо «обратить», надо научить своей вере, — особая вещь; но есть основания полагать, что тут (прежде всего у деда) было и влечение к Индии ради нее самой, готовность не только учить, но и самому учиться. И этим Герман Гессе неприметно для себя заразился очень рано. Образ Индии на всю жизнь сохранил для него прелесть младенческого воспоминания, хотя ему самому случилось увидеть страну своих грез только в 1911 году.
Много уюта, много света было в этом родительском мире, из которого Гессе ушел, подобно блудному сыну евангельской притчи. Его отрочество было омрачено тяжелыми конфликтами.
Нам сейчас легко судить об этих конфликтах. Мы знаем наперед, что Гессе был юный гений, а родители его — посредственные, ограниченные, отсталые люди, которым не понять было своего сына. Попробуем, однако, быть справедливее к ним, а заодно к нему самому, ибо только очень реальный, очень трезвый взгляд, не довольствующийся общими представлениями о непонятом гении, увидит всю глубину его юношеских мук. Что верно, то верно, понимали они его не до конца, но какие родители понимали детей до конца? Когда мы вчитываемся в отцовские и материнские письма тех лет, сберегавшиеся Германом Гессе, к его чести, в течение всей его жизни, у нас не раз бывает случай удивиться, как много терпения и понимания, настоящего понимания, было все–таки у этих людей, не только любящих, да и совсем не глупых, но прежде всего обладавших очень строгой внутренней дисциплиной, которая всегда делает людей умнее. (Ах, разве ему видно было тогда, в разгар страстей и недоразумений, как много вошло в его плоть и кровь от них! Марина Цветаева примерно в таком же возрасте дошла до того, что замахнулась на своего отца; но что был бы мятеж ее юности, да и последующих лет, без того чувства долга, чувства чести, которые были в самом воздухе родительского дома? Но это открывается юному бунтарю лишь потом.) С другой стороны, когда этот подросток Герман ни с того ни с сего сбежал «в никуда» из маульброннской протестантской семинарии, где до этого прекрасно учился и был, по всей видимости, доволен жизнью, а сбежав, зарылся морозной ночью в стог сена, словно бездомный бродяга, после этого доказал свою полную неспособность подчиниться порядку гимназии, вообще наотрез отказывался принять какой бы то ни было готовый и предначертанный жизненный путь, купил себе револьвер, носился с мыслью о самоубийстве, написал своему отцу прямо–таки чудовищное по жестокости письмо, в котором объявлял себя сиротой при живых родителях, — из чего, собственно, следовало, что он гений, а не шизофреник? Предположить второе было куда естественнее. Положа руку на сердце, никто из нас не пожелал бы такого сына себе.